Тени в раю - Ремарк Эрих Мария (2012)
-
Год:2012
-
Название:Тени в раю
-
Автор:
-
Жанр:
-
Язык:Русский
-
Страниц:71
-
Рейтинг:
-
Ваша оценка:
Тени в раю - Ремарк Эрих Мария читать онлайн бесплатно полную версию книги
Бетти Штейн вернулась из больницы. - Никто не говорит мне правду, - жаловалась она. - Ни друзья, ни враги. - У вас нет врагов, Бетти. - Вы - золото. Но почему мне не говорят правду? Я ее перенесу. Куда ужаснее не знать, что с тобой на самом деле. Я обменялся взглядом с Грефенгеймом, который сидел за ее спиной. - Вам сказали правду, Бетти. Почему надо обязательно думать, что правда - это самое худшее? Неужели вы не можете жить без драм? Бетти заулыбалась, как ребенок. - Я настрою себя иначе. А если все действительно в порядке, то опять распущусь. Я ведь себя знаю. Но если мне скажут: "Твоя жизнь в опасности", я начну бороться. Я как безумная буду бороться за то время, которое у меня еще осталось. И, борясь, быть может, продлю отпущенный мне срок. Иначе драгоценное время уйдет впустую. Неужели вы этого не понимаете? Вы ведь должны меня понять. - Я понимаю. Но раз доктор Грефенгейм сказал, что все в порядке, вы обязаны ему верить. Зачем ему вас обманывать? - Так все делают. Ни один врач не говорит правду. - Даже если он старый друг? - Тогда тем более. [262] Бетти Штейн три дня назад вернулась из больницы и теперь мучила себя и своих друзей бесконечными вопросами. Ее большие, выразительные и беспокойные глаза на добром, не по годам наивном лице, вопреки всему сохранившем черты молоденькой девушки, перебегали с одного собеседника на другого. Порой кому-нибудь из друзей удавалось на короткое время успокоить ее, и тогда она по-детски радовалась. Но уже через несколько часов у нее опять возникали сомнения, и она снова начинала свои расспросы. Теперь Бетти часами просиживала в вольтеровском кресле, которое она купила у братьев Лоу, потому что оно напоминало ей Европу, в окружении своих гравюр с видами Берлина; она перевесила их из коридора в спальню, а две маленькие гравюры в кабинетных рамках всегда ставила возле себя, таская их из комнаты в комнату. Сообщения о бомбежках Берлина, которые поступали теперь почти ежедневно, лишь на короткое время омрачали се настроение. Она переживала это всего несколько часов, но столь бурно, что в больнице Грефенгейму приходилось прятать от нее газеты. Впрочем, это не помогало. На следующий день Грефенгейм заставал ее в слезах у радиоприемника. Бетти вообще была человеком крайностей и постоянно пребывала в состоянии транса. При этом скорбь ее по Берлину находилась в явном противоречии с ненавистью к нацистскому режиму, который уничтожил многих членов ее семьи. В довершение Бетти боялась открыто скорбеть: она тщательно скрывала свои чувства от друзей, как нечто неприличное. И так уже ее нередко ругали за тоску по Курфюрстендамму и говорили, что она готова лобызать ноги убийцам. Ведь нервы всех изгнанников, раздираемых противоречивыми чувствами: надеждой, отвращением и страхом, были и так взвинчены до предела, ибо каждая бомба, упавшая на покинутую им родину, разрушала и их былое достояние; бомбежки восторженно приветствовали и в то же время проклинали; надежда и ужас причудливо смешались в душах эмигрантов, и человеку [263] надо было самому решать, какую ему занять позицию: проще всего оказалось тем, у кого ненависть была столь велика, что она заглушала все другие, более слабые движения сердца: сострадание к невинным, врожденное милосердие и человечность. Однако, несмотря на пережитое, в среде эмигрантов было немало людей, которые считали невозможным предать анафеме целый народ. Для них вопрос не исчерпывался тезисом о том, что немцы, дескать, сами накликали на себя беду своими ужасными злодеяниями или по меньшей мере равнодушием к ним, слепой верой в свою непогрешимость и чудовищным упрямством - словом, всеми качествами немецкого характера, которые идут рука об руку с верой в равнозначность приказа и права и в то, что приказ освобождает якобы от всякой ответственности. Конечно, умение понять противника было одним из самых привлекательных свойств эмиграции, хотя свойство это не раз ввергало меня в ярость и отчаяние. Там, где можно было ждать лишь ненависти, и там, где она действительно существовала, спустя короткое время появлялось пресловутое понимание. А вслед за пониманием - первые робкие попытки оправдать; у палачей с окровавленной пастью сразу же находились свидетели защиты. То было племя защитников, а не прокуроров. Племя страдальцев, а не мстителей! Бетти Штейн - натура пылкая и сентиментальная - металась среди этого хаоса, чувствуя себя несчастной. Она оправдывалась, обвиняла, опять оправдывалась, а потом вдруг перед ней вставал самый бесплотный из всех призраков - страх смерти. - Как вам теперь живется, Росс? - спросила Бетти. - Хорошо, Бетти. Очень хорошо. - Рада слышать! Я заметил, что от моих слов в ней вновь вспыхнула надежда. Раз другому хорошо живется, стало быть, можно надеяться, что и ей будет хорошо. - Это меня радует, - повторила она. - Вы, кажется, сказали "очень хорошо"? - Да, очень хорошо, Бетти. Она с удовлетворением кивнула. [264] - Они разбомбили Оливаерплац в Берлине, - прошептала она. - Слышали? - Они разбомбили весь Берлин, а не одну эту площадь. - Знаю. Но ведь это Оливаерплац. Мы там жили. - Она робко оглянулась по сторонам. - Все на меня сердятся, когда я об этом говорю. Наш старый добрый Берлин! - Это был довольно-таки мерзкий город, - осторожно возразил я. - По сравнению с Парижем или с Римом, например. Я имею в виду архитектуру, Бетти. - Как вы думаете, я доживу до того времени, когда можно будет вернуться домой? - Конечно. Почему нет? - Это было бы ужасно... Я так долго ждала. - Да. Но там все будет по-другому, а не так, как нам запомнилось, сказал я. Бетти некоторое время обдумывала мои слева. - Кое-что останется по-старому. И не все немцы - нацисты. - Да, - сказал я, вставая. Подобного рода разговоры я не выносил. Это мы успеем обсудить когда-нибудь потом, Бетти. Я вышел в другую комнату. Там сидел Танненбаум и, держа в руках лист бумаги, читал вслух. Я увидел также Грефенгейма и Равика. И как раз в эту минуту вошел Кан. - Кровавый список! - объявил Танненбаум. - Что это такое? - Я составил список тех людей в Германии, которых надо расстрелять, сказал Танненбаум, перекладывая к себе на тарелку кусок яблочного пирога. Кан пробежал глазами список. - Прекрасно! - сказал он. - Разумеется, он будет еще расширен, - заверил его Танменбаум. - Вдвойне прекрасно! - сказал Кан. - Кто же его будет расширять? - Каждый может добавить свои кандидатуры. - А кто приведет приговор в исполнение? [265] - Комитет. Надо его образовать. Это очень просто. - Вы согласны стать во главе комитета? Танненбаум глотнул. - Я предоставлю себя в ваше распоряжение. - Можно поступить еще проще, - сказал Кан. - Давайте заключим нижеследующий пакт: вы расстреляете первого в этом списке, а я всех остальных. Согласны? Танненбаум снова глотнул. Грефенгейм и Равик посмотрели на него. - При этом я имею в виду, - продолжал Кан резко, - что вы расстреляете первого в этом списке собственноручно. И не будете прятаться за спину комитета. Согласны? Танненбаум не отвечал. - Ваше счастье, что вы молчите, - бросил Кан, - если бы вы ответили: "Согласен", я влепил бы вам пощечину. Вы не представляете себе, как я ненавижу эту кровожадную салонную болтовню. Занимайтесь лучше своим делом - играйте в кино. Из всех ваших прожектов ничего не выйдет. И Кан отправился в спальню к Бетти. - Повадки, как у нациста, - пробормотал Танненбаум ему вслед. Мы вышли от Бетти вместе с Грефенгеймом. Он переехал в Нью-Йорк, работал ассистентом в больнице. Там и жил, что не позволяло ему иметь частную практику; получал он шестьдесят долларов в месяц, жилье и бесплатное питание. - Зайдемте ко мне на минутку, - предложил он. Я пошел с ним. Вечер был теплый, но не такой душный, как обычно. - Что с Бетти? - спросил я. - Или вы не хотите говорить? - Спросите Равика. - Он посоветует мне спросить вас. Грефенгейм молчал в нерешительности. - Ее вскрыли, а потом зашили опять. Это правда? - спросил я. [266] Грефенгейм не отвечал. - Ей уже делали операцию раньше? - Да, - сказал он. Я не стал больше спрашивать. - Бедная Бетти, - сказал я. - Сколько времени это может продлиться? - Этого никто не знает. Иногда болезнь развивается быстро, иногда медленно. Мы пришли в больницу. Грефенгейм повел меня к себе. Комната у него была маленькая, бедно обставленная, если не считать большого аквариума с подогретой водой. - Единственная роскошь, которую я себе позволил, - сказал он, - после того как Кан отдал мне деньги. В Берлине вся приемная у меня была заставлена аквариумами. Я разводил декоративных рыбок. - Он виновато посмотрел на меня близорукими глазами. - У каждого человека есть свое хобби. - Вы хотите вернуться в Берлин после окончания войны? - спросил я. - Да. Ведь там у меня жена. - Вы что-нибудь слышали о ней за это время? - Мы договорились, что не будем писать друг другу. Всю почту они перлюстрируют. Надеюсь, она выехала из Берлина. Как вы думаете, ее не арестовали? - Нет. Зачем ее арестовывать? - По-вашему, они задают себе такие вопросы? - Задают все же. Немцы остаются бюрократами, даже если они творят заведомо неправое дело. Им кажется, что тем самым оно становится правым. - Трудно ждать так долго, - сказал Грефенгейм. Он взял стеклянную трубочку, с помощью которой очищают дно аквариума от тины, не замутив воду. - Так вы считаете, ее выпустили из Берлина. В какой-нибудь город в Центральной Германии? - Вполне возможно. Я вдруг осознал весь комизм положения: Грефенгейм обманывал Бетти, а я должен был обманывать Грефенгейма. - Ужас в том, что мы обречены на полное бездействие, - сказал Грефенгейм. [267] - Да, мы всего лишь зрители, - сказал я. - Проклятые Богом зрители, достойные, быть может, зависти, потому что нам не разрешают участвовать в самой заварухе. Но именно это делает наше существование здесь таким призрачным, пожалуй, даже непристойным. Люди сражаются, между прочим, и за нас тоже, но не хотят, чтобы мы сражались с ними рядом. А если некоторым и разрешают это, то очень неохотно, с тысячью предосторожностей и где-то на периферии. - Во Франции можно было записаться в Иностранный легион, - сказал Грефенгейм, откладывая в сторону стеклянную трубочку. - Вы же не записались? - Нет. - Не хотели стрелять в немцев. Не так ли? - Я вообще ни в кого не хотел стрелять. Я пожал плечами. - Иногда у человека не остается выбора. Он чувствует необходимость стрелять в кого-то. - Только в себя самого. - Чушь! Многие из нас соглашались стрелять в немцев, потому что знали: те, в кого им хотелось бы выстрелить, далеко от фронта. На фронт посылают безобидных и послушных обывателей, пушечное мясо. Грефенгейм кивнул. - Нам не доверяют. Ни нашему возмущению, ни нашей ненависти. Мы вроде Танненбаума: он хоть и составляет списки, но никогда не стал бы расстреливать. Мы приблизительно такие же. Или нет? - Да. Приблизительно. Даже Кана они не хотят брать. И, возможно, они правы. Я пошел к выходу по белым коридорам, освещенным лампами в белых плафонах. Я возвращался назад к своему призрачному существованию, и у меня было такое чувство, точно я живу в эпицентре урагана на заколдованном острове, имеющем всего лишь два измерения... В Штатах было все не так, как в Европе, где недостающее третье измерение заменяла борьба против бюрократизма, против властей и жандармов, борьба за временные визы, за работу, борьба против таможенни[268] ков и полицейских - словом, борьба за то, чтобы выжить! А здесь нас встретила тишина, мертвый штиль! Только кричащие газетные заголовки и сводки по радио напоминали о том, что где-то далеко за океаном бушует война; Америка знала лишь войну в эфире: ни один вражеский самолет не бороздил американских небес, ни одна бомба не упала на американскую землю, ни один пулемет не строчил по американским городам. В кармане у меня лежало извещение о том, что вид на жительство мне продлили на три месяца: я был теперь Enemy Alien - иностранец-враг, правда, не такой уж враг, чтобы засадить меня в тюрьму. И сейчас я шел по этому городу, открытому всем ветрам, - искра жизни, которая не хотела погаснуть, чужак. Я шел, глубоко дыша и тихонько насвистывая. Комок плоти, носивший чужое имя Росс. - Квартира! - воскликнул я. - Свет! Мебель! Кровать! Любимая женщина! Электрическая плита для жарки мяса! Стакан водки! Во всем можно найти светлую сторону, она есть даже в той несчастной жизни, на какую я обречен. При такой жизни ничто не входит в привычку. Отлично! Всем ты наслаждаешься, словно в первый раз. Все пробирает тебя до костей. Не щекочет, а именно пробирает до костей, до мозга костей, до серого вещества, которое заключено в твоей черепной коробке. Дай на тебя поглядеть, Наташа! Я боготворю тебя уже за то, что ты со мной. За то, что мы живем в одно время. А потом уже за все остальное. Я - Робинзон, который всякий раз находит своего Пятницу! Следы на песке! Отпечатки ног! Ты для меня - первый человек на этой земле. И при каждой встрече я ощущаю это снова. Вот в чем светлая сторона моей треклятой жизни. - Ты много выпил? - спросила Наташа. - Ни капли. Ничего я не пил, кроме кофе и грусти. - Тебе грустно? - В моем положении грустишь недолго. Потом рывками переворачиваешься, будто во сне. И тогда грусть становится всего лишь фоном, еще сильнее оттеняю[269] щим полноту жизни. Грусть идет на дно, а жизненный тонус поднимается вверх, словно вода в сосуде, куда бросили камень. То, что я говорю, далеко не истина. Я только хочу, чтобы это было истиной. И все же доля истины в этом есть. Иначе будешь жить на износ, как бархатный лоскут в коробке с лезвиями. - Хорошо, что ты не грустишь, - сказала Наташа. - Причины меня не интересуют. Все, на что находятся причины, уже само по себе подозрительно. - А то, что я тебя боготворю, тоже подозрительно? Наташа рассмеялась: - Это опасно. Человек, который склонен к возвышенным чувствам, обманывает обычно и себя и других. Я озадаченно посмотрел на нее. - Почему ты это говоришь? - Просто так. - Ты на самом деле это думаешь? - А отчего бы и нет? Разве ты не Робинзон? Робинзон, который без конца убеждает себя, что видел следы на песке? Я не отвечал. Ее слова задели меня сильнее, чем я ожидал. А я-то думал, что обрел твердую почву под ногами, - оказывается, это была всего-навсего осыпь, которая при первом же шаге может обрушиться. Неужели я нарочно преувеличивал прочность наших отношений? Хотел утешить себя? - Не знаю, Наташа, - ответил я, пытаясь избавиться от неприятных мыслей. - Знаю только одно: до сих пор мне были заказаны любые привычки. Говорят, что пережитые несчастья воспринимаются как приключения. Я в этом не уверен. В чем, собственно, можно быть уверенным? - Да, в чем можно быть уверенным? - переспросила она. Я засмеялся: - В этой водке, что у меня в стакане, в куске мяса на плите и, надеюсь, в нас обоих... Все равно я тебя боготворю, хоть ты и находишь это опасным. Боготворить - радостно, и чем раньше этим займешься, тем лучше. [270] - Вот это правильно. И не нуждается в доказательствах. Такие вещи надо чувствовать. - Так и есть. И опять-таки, чем раньше начнешь чувствовать, тем лучше. - А с чего начнем мы? - Хоть с этой комнаты! С этих ламп! С этой кровати! Хоть они и не принадлежат нам. Что в конечном счете принадлежит человеку? И на какой срок? Все взято взаймы, украдено у жизни и без конца крадется вновь. Наташа обернулась. - И самих себя мы тоже обкрадываем? - Да. Себя тоже. - Почему же в таком случае человек не впадает в отчаяние и не пускает себе пулю в лоб? - Это никогда не поздно. Кроме того, есть более легкие пути. - Догадываюсь, о чем ты говоришь. Наташа обошла вокруг стола. - По-моему, нам надо кое-что отпраздновать. - Что именно? - То, что тебе разрешили жить в Америке еще три лишних месяца. - Ты права. - А что бы ты делал, если бы разрешение тебе не продлили? - Пытался бы получить разрешение на въезд в Мексику. - Почему в Мексику? - Там более гуманное правительство. Оно впустило бы даже беженцев из Испании. - Коммунистов? - Просто людей. С легкой руки Гитлера, слово "коммунист" употребляется теперь к месту и не к месту. Каждый человек, выступающий против Гитлера, для него коммунист. Любой диктатор начинает свою деятельность с того, что упрощает все понятия. - Хватит нам говорить о политике. Ты смог бы вернуться из Мексики в Штаты? - Только с документами по всей форме. И только если меня не вышлют отсюда. Допрос на сегодня закончен? [271] - Нет еще. Почему тебя оставили здесь? Я рассмеялся. - Весьма запутанная история. Если бы Америка не была в состоянии войны с Германией, меня наверняка не впустили бы сюда. Выходит: чем хуже - тем лучше. Трагичное всегда идет рядом со смешным. Иначе множество людей с моей биографией уже давно погибли бы. Наташа села рядом со мной. - Твою жизнь не так-то легко понять. - К сожалению. - Сдается мне, что ты этим гордишься. Я покачал головой. - Нет, Наташа. Я только делаю вид, что горжусь. - Очень лихо делаешь вид. - Как и Кан. Не правда ли? Существуют эмигранты активные и пассивные. Мы с Каном предпочитали быть активными. И соответственно вели себя во Франции. Положение обязывает! Вместо того чтобы оплакивать свою долю, мы, по мере возможности, считали превратности судьбы приключениями. А приключения у нас были довольно-таки отчаянные. Поздно вечером мы решили еще раз выйти. До этого я некоторое время в задумчивости просидел у окна. Небо было очень звездное, и ветер гулял где-то под нами, над невысокими крышами домов на Пятьдесят пятой и Пятьдесят шестой улицах; казалось, он готовился взять штурмом небоскребы, которые безмолвно, подобно башням, возвышались среди зеленых и красных вспышек светофоров. Я открыл окно и высунул голову. - Посвежело, Наташа, в первый раз за долгие месяцы. И дышится легко! Наташа подошла ко мне. - Скоро осень, - сказала она. - Слава Богу. - Слава Богу? Не надо подгонять время! Я засмеялся. - Ты рассуждаешь, как восьмидесятилетняя старуха. - Нельзя подгонять время. А ты только и делаешь, что торопишь его. [272] - Больше не буду! - обещал я, заведомо зная, что это ложь. - Куда ты спешишь? Хочешь вернуться? - Послушай, Наташа, я еще не поселился здесь как следует. Разве мне пристало думать о возвращении? - Ты только об этом и думаешь. Ни о чем другом. Я покачал головой. - Я не загадываю дальше завтрашнего дня... Настанет осень, потом зима и потом лето и опять осень, а мы по-прежнему будем смеяться, по-прежнему будем вместе. Наташа прижалась ко мне. - Не покидай меня! Я не способна быть одна. Я не героиня. Характер у меня отнюдь не героический. - Я встречал среди тевтонцев миллионы женщин с героическим характером. Это их национальная особенность... Геройство заменяет этим дамам женскую привлекательность. А часто также секс. От них тошнит. А теперь хватит хныкать, давай выйдем на улицу в этот первый вечер бабьего лета. - Хорошо. Мы спустились на лифте. В кабине никого, кроме нас, не было. Час парада "звезд" давно миновал. Час пуделей тоже. Ветер, как гончая, рыскал возле аптеки Эдвардса на углу. - Лето пролетело, - заметил Ник из своего киоска. - Слава Богу! - бросила Наташа. - Не радуйся раньше времени, - сказал я. - Оно еще вернется. - Ничего никогда не возвращается, - объявил Ник. - Возвращаются только беда и этот паршивый гад, пудель по кличке Репе, стоит мне зазеваться - и он уже написал на обложки "Вога" и "Эсквайра". Хотите "Ньюс"? - Мы заберем ее на обратном пути. Бесхитростная болтовня с Ником каждый раз приводила меня в волнение. Уже само сознание, что не надо скрываться, волновало меня. Вечерняя прогулка, столь обычная для каждого обывателя, казалась мне авантюрой, ибо самой большой авантюрой для меня была безопасность. Я стал почти человеком; правда, меня [273] всего лишь терпели, но уже не гнали. Мое американское "я" успело вырасти примерно до двух третей европейского. Конечно, мой английский язык был далек от совершенства и весьма беден, тем не менее я уже довольно свободно болтал. Словарный запас был у меня, как у подростка лет четырнадцати, но я им умело пользовался. Многие американцы обходились тем же количеством слов, только они говорили без запинки. - Как ты относишься к тому, чтобы сделать большой круг? - спросил я. Наташа кивнула. - Я хочу света. Столько света, сколько может быть в этом полутемном городе. Дни становятся короче. Мы пошли вверх, к Пятой авеню и, миновав гостиницу "Шерри Нэзерленд", вышли к Сентрал-парку. Несмотря на уличный шум, из зоологического уголка отчетливо доносился львиный рык. У "Вьей Рюси" мы остановились, чтобы поглядеть на иконы и пасхальные яйца из оникса и золота, которые Фаберже изготовлял когда-то для царской фамилии. Русские эмигранты до сих пор продавали их здесь. И конца этому не предвиделось, точно так же, как донским казакам, которые из года в год давали концерты и ничуть не старели, словно герои детских комиксов. - Там уже начинается осень, - сказала Наташа, показывая на Сентрал-парк. - Пойдем назад, к "Ван Клеефу и Арпельсу" Мы медленно брели вдоль витрин, в которых были выставлены осенние моды. - Для меня это уже давно пройденный этап, - сказала Наташа. - Эти модели мы снимали в июне. Я всегда живу на одно время года вперед. Завтра мы будем снимать меха. Может быть, поэтому мне и кажется, что жизнь летит чересчур быстро. Все люди еще радуются лету, а у меня в крови уже осень. Я остановился и поцеловал ее. - Просто удивительно, о чем мы с тобой говорим! - воскликнул я. Совсем как персонажи Тургенева или Флобера. Девятнадцатый век! Теперь у тебя в крови уже зима: вьюги, меха и камины. Ты - провозвестница времен года. [274] - А что у тебя в крови? - У меня? Сам не знаю. Наверное, воспоминания о бесчинствах и разрушениях. С осенью и зимой в Штатах я вовсе не знаком. Эту страну я видел лишь весной и летом. Понятия не имею, на что похожи небоскребы в снежный день. Мы дошли до Сорок второй улицы и вернулись к себе по Второй авеню. - Ну так как же, останешься сегодня ночью со мной? - спросила Наташа. - А это можно? - Конечно, ведь у тебя есть зубная щетка и белье. Пижама не обязательна. А бритву я тебе дам. Сегодня ночью мне не хотелось бы спать одной. Будет ветрено. И если ветер меня разбудит, ты окажешься рядом и успокоишь меня. Мне хочется дать себе волю и расчувствоваться, хочется, чтобы ты меня утешал и чтобы мы заснули, ощущая приближение осени, хочется забыть о ней и снова вспомнить. - Я остаюсь. - Хорошо. Мы ляжем в постель и прижмемся друг к другу. Увидим наши лица в зеркале напротив и прислушаемся к вою ветра. Когда ветер усилится, в глазах у нас промелькнет испуг, и они потемнеют. Ты обнимешь меня крепче и начнешь рассказывать о Флоренции, Париже в Венеции, обо всех тех городах, где мы никогда не будем вместе. - Я не был ни в Венеции, ни во Флоренции. - Все равно, можешь рассказывать о них так, будто ты там был. Я, наверное, разревусь и буду ужасно выглядеть. Когда я плачу, я далеко не красавица. Но ты меня простишь за это и за мою чувствительность тоже. - Да. - Тогда иди ко мне и скажи, что ты будешь любить меня вечно и что мы никогда не состаримся.

 Ты мой закат, ты мой рассвет
Ты мой закат, ты мой рассвет 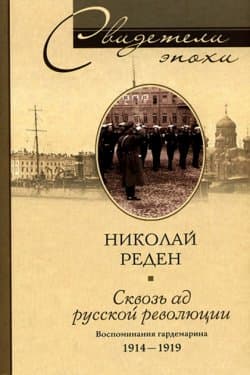 Сквозь ад русской революции. Воспоминания гардемарина. 1914–1919
Сквозь ад русской революции. Воспоминания гардемарина. 1914–1919  Философия философии
Философия философии  Я сбилась с пути
Я сбилась с пути  Все ее страхи
Все ее страхи 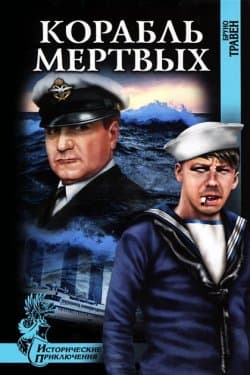 Корабль мертвых
Корабль мертвых  Наследник
Наследник 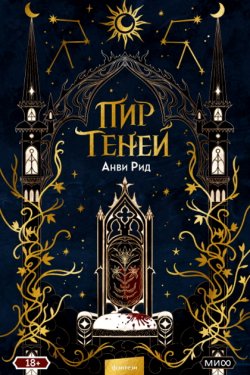 Пир теней
Пир теней  Князь во все времена
Князь во все времена  Когда порвется нить
Когда порвется нить 
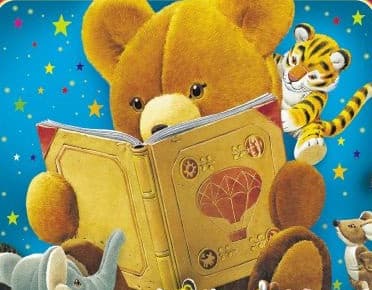



Отзывы о книге Тени в раю (1 шт.)